Роман Кононов
ВНУТРЕННИЙ РЕБЕНОК И ТЬМА
ВНУТРЕННИЙ РЕБЕНОК И ТЬМА
Роман Кононов - юнгианский аналитик, член УрААП, РОАП/IAAP, преподаватель Локального учебного Центра РОАП/IAAP (Екатеринбург), главный редактор интернет-альманаха Temenos, ведущий специалист Центра Развития Глубинной Психологии (Екатеринбург). Статья впервые была представлена как доклад 25 мая 2013 на IX Конференции по глубинной психологии УРААП «Как я провел Конец Света» (25-26 мая 2013, Екатеринбург).
Темнота в детстве редко бывает другом. Пока эго не окрепнет, она несет опасность и вызывает страх, как исходная, породившая сознание хтоническая среда. Поэтому образ «ребенка во тьме» почти всегда несет тревожные смыслы. В своей автобиографии Юнг описывал сновидение пациента, где в центребольшого пустого темного зала сидел ребенок, обмазывающий себя фекалиями. Этот образ вызвал у Юнга потрясение и послужил указанием на латентный психотический процесс у пациента. Даже в позитивной коннотации, когда во тьме оказывается Божественный ребенок, излучающий негасимый свет Самости, противопоставление между этим светом и праматеринской, хтонической тьмой кажется нам напряженным и рискованным.
Внутренний ребенок: определения
Ребенок - это архетипический образ, с которым соотносят готовность играть и творить, способность устанавливать живые связи, начинать новое, порождать смыслы, аутентичные личностному духу; это потенциал, который спонтанно раскрывает себя. Внутренним ребенок оказывается, когда мы становимся взрослыми. Наши воспоминания о своем детстве, истории о наших детях, детях друзей и родственников, детские образы в сновидениях и кинематографе – все это становится репрезентацией, формой воплощения для нашего внутреннего ребенка. Он может играть, радоваться, обижаться, скучать и злиться и синхронно будет меняться наше настроение и установка. А еще он может оказаться во Тьме бессознательности, нереализованности и бессмысленности, и тогда ощущение жизни покидает нас. Тьма, как правило, забирает внутреннего ребенка из-за травмы – столкновения с непереносимым опытом. В моем сообщении будет несколько клинических примеров, в части из них образ «ребенка во Тьме» – это метафора,
раскрывающая внутреннюю динамику, а в части – буквальное событие – жизненный опыт, но тоже раскрывающий сущность травматического процесса. Именно таким будет первый пример.
Ребенок во Тьме: «Саша: заточенный в тюрьму»
В клинической ситуации мотив «ребенка во Тьме» чаще всего предстает именно в негативных смыслах. Много лет назад у меня было несколько сессий с маленьким мальчиком по имени Саша и его мамой, которые обратились в связи с трудностями к подготовке к школе. Саша не мог или не хотел выполнять учебные задания, которые ему давали воспитатели в группе развития. Изредка он жаловался на боли в животе, которые предшествовали занятиям. Но при этом Саша всегда уступал родительским уговорам и все-таки отправлялся в группу. Наиболее продуктивными оказались сессии, где Саша рисовал цветными карандашами то, что хотел (это делать ему нравилось), а я слушал его маму, которая говорила и о своем сыне, и о своей жизни в целом. Мальчик, с одной стороны, был отстраненным зрителем, изредка смотревшим на сцену, где взрослые рассказывали о нем истории, с другой вовлеченным участником – молчаливым художником, который рисовал картины, которые, так или иначе, иллюстрировали эти рассказы взрослых. Я не всегда мог рационально связать одно с другим, но давал маме Саши понять, что в целом понимаю смысл рисунков. Ценным было постепенно формирующееся у нее убеждение, что такая смысловая связь, в самом деле, есть.
В тот вечер Саша отодвинул в сторону частично уже нарисованный рисунок и вытащил из моего стола несколько листов в клетку, хотя обычной чистой бумаг было в достатке. В это время его мама говорила о том, как уже много сил и средств они с отцом вложили, чтобы их сын смог пойти в престижную школу. Все в семье понимали, насколько важно попасть в правильную школу и к правильному педагогу. Бабушка, которая сама проработала учителем много лет, тоже не оставалась в стороне, занимаясь с внуком вечером, после садика. Ради этого даже была на время забыта вражда между тещей и зятем – отцом Саши.
Где-то в середине этого повествования мама Саши, кинув мимолетный взгляд на рисунок сына, внезапно запнулась и замолчала. Саша тщательно обводил черным карандашом клеточки на бумаге, а затем плотно чернил – раскрашивал их. Он работал сосредоточенно, как будто стараясь, чтобы штриховка не выходила за границы обведенного квадратика, но это все равно происходило. Нажим был сильным и карандаш вскоре затупился. После недолгого раздумья, Саша заменил его на темно-синий и продолжил дело. В целом рисунок производил очень неприятное впечатление, на самом деле, лишь честно передавая напряжение, которое испытывал его автор. В этот раз Сашина мама, на волне потрясения, уже без моей помощи связала рисунок сына со своим рассказом. Она наклонилась ко мне и почему-то шепотом сказала: «Я понятия не имела, насколько это ему тяжело…». И после небольшой заминки: «что он все-таки рисует?» «Тюрьму, конечно, - ответил я. – Без окон и без дверей». Эта сессия была решающей, поскольку женщина осознала, что родительское честолюбие привело ее сына к душевному заточению и неврозу. Она в первый раз, в рамках темы подготовки к школе, смогла отнестись к нему с сочувствием. Сашина мама в этой теме почти все время выступала как нерефлексивный и беспощадный моральный авторитет, словно была для своего сына архаическим – категоричным и ревнивым Богом. Наваливая на своего ребенка все новые упражнения и задачи, она чувствовала свою безусловную правоту и внутренне была уверена в полезности всего этого для будущего своего сына. Женщина не осознавала своей жестокости и того страха, который вызывала у своего ребенка. Несколько раз я видел на ее обращенном к сыну лице мимолетное выражение странной брезгливости, от которого даже я ощущал ужас и сильный стыд.
Не перестаешь удивляться тому, насколько точными порой бывают бессознательные содержания. Зачерняя клеточки, Саша символически показывал своему окружению, что происходит с его жизненной силой – она раз за разом (клеточек – много!)
фрагментируется и заточается во тьме. Она более не выходит на свет – ею не живут. Утрата целостности и живости это – традиционная цена, которую маленькие дети платят за адаптацию к ожиданиям взрослых. Но даже став взрослыми и самостоятельными людьми, мы временами оказываемся в точно таком же положении – наша спонтанность и жизненная сила, персонифицируемые образом ребенка, оказывается в травматическом заточении. А что происходит дальше, когда внутренний ребенок пациента уже заперт во Тьме? Каким образом эта «запертость» поддерживается на протяжении многих лет? Кто тюремщик? Каким образом можно распознать присутствие и работу травмы?
Дональд Калшед и «Внутренний мир травмы»
В начале 2000-х мы познакомились с книгой Дональда Калшеда «Внутренний мир травмы»[1], которая помогла целому поколению аналитиков ответить на эти и многие другие вопросы. Калшед ввел в обращение несколько важных идей. Во-первых, теперь травма рассматривается как самоорганизующаяся система, которая способна поддерживать гомеостатическое равновесие вокруг раненного внутреннего ребенка. Во- вторых, травма обрела персонификацию – т.н. «Травматического защитника» - архетипического агента системы самосохранения, в чьи задачи входит защита этого ребенка от повторного столкновения с травматическими переживаниями. «Немыслимое не должно быть пережито» и поэтому все потенциально опасные, аффективно емкие связи будут объектом атаки защитника. Персонификация травмы позволила распознавать ее присутствие в сновидениях, фантазиях и, отчасти, в пространстве переноса-контрпереноса. Травматический защитник стал доступен как псевдо-личность в рамках активного воображения. Появилась возможность управляемой коммуникации с травматической системой, которою он представляет.
В описании Дональда Калшеда, Травматический защитник – это амбивалентная нуминозная фигура с полномочиями Самости, которая и бережет, и уничтожает. Это сочетание заботы и жестокого насилия роднит ее с Яхве эпохи Ветхого Завета, каким мы Его знаем в истории с Иовом. В этой космогонической фазе архаический Бог еще морально не дифференцирован – он Яхве/Сатана, которому только предстоит трансформация в фигуру подлинного Спасителя. Но пока он пребывает в тупике status quo, который будет разрешен с помощью Иова. Чем более ранней является травма, тем ближе Травматический защитник к образу ветхозаветного Бога. К Самости, персонифицируемой этим амбивалентным образом, очень подходит прилагательное «архаическая». Для себя я использую термин «архаическая Самость» как синоним «Травматическому защитнику», во многом из-за емкой амплификации, представленной в «Книге Иова». Этот непростой сюжет, на мой взгляд, описывает основной паттерн взаимодействия травматической системы с познающим ее сознанием. Именно так Травматический защитник «проверяет на прочность» внешний объект, с которым у носителя травмы устанавливается теплая, а потому потенциально опасная эмоциональная связь. Любой, претендующий на душевную близость с таким человеком, и кто далеко продвинулся на этом пути, однажды невольно повторяет участь Иова – становится объектом деструктивного воздействия, приводящего к страданию и потере смысла. Очень редко этот паттерн представлен в сознании явно и зримо. Требуется постоянство объекта и время для «вызревания», например, в пространстве переноса-контрпереноса, тогда паттерн может быть подвергнут осознанной конфронтации и интерпретации[2].
Несмотря на болезненный драматизм Книги Иова, появление этого сюжета в аналитических отношениях – позитивный признак возросшего доверия к аналитику, к его постоянству и надежности. Прежде чем это случится, Травматический защитник долгое время действует «из засады», оставаясь «за кадром». Например, пациент может завершить сессию, ощущая теплую и надежную связь с собой и аналитиком, но следующая встреча начинается с холодного опустошения и напряженности – как будто никакого контакта, в который включился раненый ребенок, не было. Аффективно теплая связь оказывается уничтоженной Травматическим защитником как потенциально опасная. И аналитик никак не может повлиять на это. Все, что остается пациенту и аналитику – это раз за разом, сессию за сессией восстанавливать разрушенное.
Как-то я спросил одну такую пациентку, как долго после встречи остается с ней теплое ощущение, которого ей удалось достичь на сессии. Она немного подумала и ответила: «минут десять…». Потом, видимо прочитав что-то на моем лице, добавила: «Это еще ничего… Раньше оно исчезало прежде, чем я выходила из кабинета». Этот процесс можно видеть и в пределах кабинета.
Иногда, наблюдая за отношениями других людей можно увидеть, как один из партнеров по коммуникации «влипает» в неосознаваемую идентификацию с архаической Самостью, заставляя другого разделять участь Иова. Как, например, в случае Саши и его мамы и еще в одном примере, который я опишу позже. Как правило, речь идет о коротких включениях, которые сопровождаются изменениями в мимике, жестах и психологической атмосфере. Обобщенный образ такой: лицо на мгновение как будто немного бледнеет и застывает, транслируя очень сложное, амбивалентное сообщение о величии, заботе, жестокости, нежности, ярости, отстраненности. Атмосфера становится нуминозно насыщенной – проступивший лик одновременно пугает и привлекает. Этот противоречивый и мощный образ, как правило, не вмещается в сознание – мы, либо воспринимаем его усеченно (односторонне), либо вообще стремимся вытеснить. Чаще всего, он либо только пугает, либо только привлекает, либо отрицается. Субъект, как правило, не осознает факт идентификации – в эти моменты его «нет дома». Понятно, что бессознательность по отношению к этому опыту не освобождает от участия в паттерне Яхве/Сатана – Иов.
Травматический защитник уничтожает уже образовавшуюся аффективную связь. Но в арсенале травматической системы есть инструменты блокирующие и саму возможность формирования такой связи. В каком-то смысле, это первый рубеж обороны – внешняя стена убежища-тюрьмы, в которой прячется раненный ребенок. Эти инструменты также могут быть персонифицированы некими ролями и персонажами. Травматический защитник появляется на сцене, когда эти фигуры не справились и опасная связь все-таки образовалась. Их трое, вместе с защитником – четверо. Плюс – охраняемый, удерживаемый в заточении раненый ребенок. Вкупе они составляют «травматическую систему». Далее я приведу два случая, в которых эти персонажи так или иначе представлены.
Ребенок во тьме: «Эва: запертая в чулане»
Это случай молодой женщины, назовем ее Эвой, которая обратилась по поводу тяжелых переживаний, связанных с предразводной ситуацией у нее в семье. Женщина столкнулась с ситуацией измены мужа и ее привычный мир практически разрушился. Она довела себя до нервного истощения, устраивая за слежку за мужем и просматривая по ночам его телефон. Через пару месяцев работы ситуация немного стабилизировалась и в сознании Эвы всплыло воспоминание, относящееся к ее шестилетнему возрасту. И это был настоящий подарок рабочему альянсу, потому что всплывший материал содержал в себе емкое и очень точное отображение внутреннего процесса пациентки. Более того, именно этот материал послужил толчком для подготовки этого сообщения.
Однажды во время детской игры подружки заперли ее в темном чулане. Сначала это было частью игры. Девочка могла слышать их голоса, о чем они говорят, но ей нельзя было самой подавать голос – нужно было сидеть тише мыши. Потом пришла мама девочки и спросила про нее. Подружки в ответ рассказали какую-то историю, объяснив, таким образом, ее отсутствие и, тем самым, отправили мать по ложному следу. Когда мама ушла, девочка громко попросила выпустить ее, поскольку ей было не по себе от обмана, в котором она приняла участие. Но подружки продолжали вести себя так, словно бы не слыша ее. Они о чем-то говорили друг с другом и смеялись. Девочка кричала до хрипоты и стучалась в дверь, но все было безрезультатно.
Иногда одна подружка подходила к двери чулана и говорила, что вот-вот они выпустят ее – вот только найдут ключ, который случайно потеряли в суматохе – и волноваться не надо. Другая тоже что-то говорила, но девочка не могла разобрать слов – голос звучал издалека – вторая подружка не подходила к двери. Однако интонации ее голоса казались торжествующими и злыми. Через некоторое время девочка словно бы стала частью темноты чулана – она онемела, а время будто остановилось. Жизнь проходила где-то снаружи, но это уже не имело к ней никакого отношения. Другие люди жили за нее. Играли, кушали, общались с мамой…
Возможно, это самое точное описание того, что чувствует запертый во Тьме ребенок.
Опыт мучительный и жуткий[3]. Но особенный интерес представляют подруги запертой девочки. Когда воспоминание оформилось, именно их поведение вызвало у Эвы замешательство и страх. «Они словно бы работали номер! – Сказала она. – Действовали сообща, как добрый и злой полицейский». Действительно: одна утешала – вторая глумилась. Очень быстро женщина увидела такую же связку среди своих подруг, которые уже в современной жизни «помогали» ей справится с семейным кризисом.
- Что же это получается? – Растерянно спросила она. – И эти как-то меня запирают в чулан?
- В каком-то смысле – да. Вы ведь хотели перестать страдать? Ваша способность переживать - это ваш внутренний ребенок. Если он заперт в чулане и онемел - больше не кричит от боли и ужаса, то вы, по идее, должны успокоиться.
- Но ведь этого не происходит!
- Ага. Возможно ваша девочка, запертая в чулане, еще не сломалась и продолжает кричать.
Эву заинтриговал факт сходства в поведении ее детских и взрослых подруг, и она постепенно пришла к мысли, что она сама бессознательно как-то организует такую ситуацию. Она стала внимательней следить за собой, и поняла, что помощь подруг и в самом деле лишает ее возможности по-человечески встретиться и поговорить с мужем. Все, что она предпринимала под их влиянием, вело к рассогласованию и распаду. Не следует воспринимать подруг Эвы как «злодеек». Трудно не быть частью травматической системы близкого человека. Это требует высокой степени осознанности по отношению ко всем своим душевным движениям. Речь идет не только об агрессивных побуждениях, но и о самых, казалось бы, человечных, добрых намерениях. Инкапсулированный во Тьме ребенок в чем-то подобен «черной дыре», создающей гравитационную воронку, искажающую свет сознания не только носителя травмы, но и его окружения. Человек, чей внутренний ребенок пребывает в таком состоянии, невольно наделяет других специфическими функциями, в сущности, превращая их в фигуры, которые поддерживают инкапсуляцию.
После «науськиваний» «глумящейся подруги», Эва превращалась в неистовую мстительную фурию. Она тратила время на планы, в которых контролировала и уничтожала и любовницу мужа, и его самого. В результате этих планов муж должен был понять и проникнуться мыслью о том, насколько большую ценность представляет его жена. Проникнуться, а потом умереть в мучительном раскаянии. Эва также начинала готовиться к грандиозному рывку в карьере. В этой роли гудящая внутри агрессия давала ощущение уверенности и силы – женщине казалось, что она «наконец-то поднялась над ситуацией». Затем силы кончались, и она впадала в оцепенение. Далеко не сразу Эва смогла осознать типичность, повторяемость и бесперспективность этого состояния.
По мере знакомства с этим персонажем я понимал, что имею дело с типичной фигурой, присутствие которой обнаруживалось не только в случае Эвы, но и в некоторых других. Встал вопрос об амплификации. Поскольку фигура Травматического защитника уже отразилась в зеркале ветхозаветной мифологии, уместно искомый образ тоже взять оттуда.
Каин – первый, после изгнания из Рая, человеческий ребенок – сын Адама и Евы. Он – один из самых известных персонажей Ветхого Завета, чье имя практически стало нарицательным для озлобленного, ревнивого и завистливого человека, способного на подлости, вплоть до убийства по отношению к близким людям. Сюжет всем хорошо известен: братья Каин и Авель приносят Яхве благодарственную жертву, первый – корнеплоды, второй– агнца (Быт.4:2-4). Яхве принимает дар Авеля, дар Каина – отвергает (Быт.4:4-5). После чего Каин убивает Авеля и пытается скрыть убийство (Быт.4:8-9). После разоблачения Каин проклинается и изгоняется, хотя и остается под особым присмотром Яхве (Быт. 4:11-15).
В психологическом смысле, ветхозаветному Каину как личности хватает силы эго на сепарацию и последующую автономию – он основывает город и династию. Но подобно тому, как Травматический защитник не является полноценной Самостью, не стимулируя к росту, а лишь оберегая, Каин травматической системы также оказывается неполноценной и, в каком-то смысле, пародийной фигурой – «псевдо-Каином». Под его влиянием эго как будто становится энергичным – наполняется злобной, мстительной решимостью, но для поддержания этого состояния нужен другой, который своим страхом, благоговением или собственной злостью будет поддерживать и придавать смысл всей этой сомнительной «бодрости». Травматическая система не заинтересована в развитии, поэтому мстительный потенциал псевдо-Каина лишен сепарационного смысла и потому не приносит ничего нового, лишь приводя эго к истощению и бессилию. Чаще всего до реальных действий дело не доходит вовсе.
Для того чтобы понять восприятие мира псевдо-Каином вспомните, как завидовали в детстве сами. Добавьте к этому опыту ощущение, что у вас ничего нет, кроме того, чем владеет объект вашей зависти. Сознание сужается, превращаясь в трубу, по которой течет ненависть.
После разговоров с «помогающей подругой», Эва верила в лучшее и пыталась вести себя так, словно ничего фатального не произошло – она была любезна и внимательна к мужу, который, кстати, здорово нервничал в такие моменты. Жена казалось ему неадекватной и непредсказуемой – «бомбой, которая вот-вот рванет». Женщина же внутренне настраивалась на прощение и принятие. И ей нравилось свое отражение в зеркале – немного возвышенное и доброе. Но очень быстро она уставала от этого и могла сорваться на крик из-за мелочи.
«Помогающая подруга» воспроизводила модель поведения, которую можно соотнести с Авелем травматической системы. Как мы знаем, в Ветхом Завете Авель – это счастливчик, чья благодарственная жертва принята Яхве. С психологической точки зрения, Авель, как личность имеет связь с Самостью, т.е. обладает доступом к душевному равновесию и непосредственному переживанию живого смысла своей судьбы – своего рода просветленным. Недаром, в Новом Завете, Иисус называет Авеля «праведником» (Мф. 23:35). Псевдо-Авель тоже предстает кротким и заботливым «аки агнец». Но от его заботы невозможно получить поддержку. Скорее наоборот, потому что, псевдо-Авель заботиться и проповедует, упрекая. Смирение перед божественной волей от проповедей псевдо-Авеля превращается в бессилие и унижение. Как и в случае воздействия псевдо-Каина, псевдо-Авель приводит эго к истощению и ощущению, что не ты достоин хорошего. В этом депрессивном состоянии невозможно претендовать на связь.
Обе роли, в которых оказывалась женщина, истощали, потому что не были напрямую связаны с ее истинными потребностями. Репрезентирующий эти потребности внутренний ребенок пребывал в заточении, и потому Эва не могла почувствовать, ощутить, понять, чего она хочет на самом деле. Вместо этого она погружалась в архетипические формы переживания – то в праведное воодушевление, то в мстительную решительность.
--
[1] Калшед Д. Внутренний мир травмы. Екатеринбург, Академический проект.2001
[2] Кононов Р.А. Зло: от мифологии к психологическим смыслам/Теменос. Альманах глубинной психологии
№5. Екатеринбург, 2012.
[3] Описанный эпизод не является исходной точкой травмы, поскольку слишком хорошо структурирован и вербализован; скорее это одно из ярких звеньев цепочки ретравматизаций, начало которой уходит в опыт младенческого отвержения.
Ребенок - это архетипический образ, с которым соотносят готовность играть и творить, способность устанавливать живые связи, начинать новое, порождать смыслы, аутентичные личностному духу; это потенциал, который спонтанно раскрывает себя. Внутренним ребенок оказывается, когда мы становимся взрослыми. Наши воспоминания о своем детстве, истории о наших детях, детях друзей и родственников, детские образы в сновидениях и кинематографе – все это становится репрезентацией, формой воплощения для нашего внутреннего ребенка. Он может играть, радоваться, обижаться, скучать и злиться и синхронно будет меняться наше настроение и установка. А еще он может оказаться во Тьме бессознательности, нереализованности и бессмысленности, и тогда ощущение жизни покидает нас. Тьма, как правило, забирает внутреннего ребенка из-за травмы – столкновения с непереносимым опытом. В моем сообщении будет несколько клинических примеров, в части из них образ «ребенка во Тьме» – это метафора,
раскрывающая внутреннюю динамику, а в части – буквальное событие – жизненный опыт, но тоже раскрывающий сущность травматического процесса. Именно таким будет первый пример.
Ребенок во Тьме: «Саша: заточенный в тюрьму»
В клинической ситуации мотив «ребенка во Тьме» чаще всего предстает именно в негативных смыслах. Много лет назад у меня было несколько сессий с маленьким мальчиком по имени Саша и его мамой, которые обратились в связи с трудностями к подготовке к школе. Саша не мог или не хотел выполнять учебные задания, которые ему давали воспитатели в группе развития. Изредка он жаловался на боли в животе, которые предшествовали занятиям. Но при этом Саша всегда уступал родительским уговорам и все-таки отправлялся в группу. Наиболее продуктивными оказались сессии, где Саша рисовал цветными карандашами то, что хотел (это делать ему нравилось), а я слушал его маму, которая говорила и о своем сыне, и о своей жизни в целом. Мальчик, с одной стороны, был отстраненным зрителем, изредка смотревшим на сцену, где взрослые рассказывали о нем истории, с другой вовлеченным участником – молчаливым художником, который рисовал картины, которые, так или иначе, иллюстрировали эти рассказы взрослых. Я не всегда мог рационально связать одно с другим, но давал маме Саши понять, что в целом понимаю смысл рисунков. Ценным было постепенно формирующееся у нее убеждение, что такая смысловая связь, в самом деле, есть.
В тот вечер Саша отодвинул в сторону частично уже нарисованный рисунок и вытащил из моего стола несколько листов в клетку, хотя обычной чистой бумаг было в достатке. В это время его мама говорила о том, как уже много сил и средств они с отцом вложили, чтобы их сын смог пойти в престижную школу. Все в семье понимали, насколько важно попасть в правильную школу и к правильному педагогу. Бабушка, которая сама проработала учителем много лет, тоже не оставалась в стороне, занимаясь с внуком вечером, после садика. Ради этого даже была на время забыта вражда между тещей и зятем – отцом Саши.
Где-то в середине этого повествования мама Саши, кинув мимолетный взгляд на рисунок сына, внезапно запнулась и замолчала. Саша тщательно обводил черным карандашом клеточки на бумаге, а затем плотно чернил – раскрашивал их. Он работал сосредоточенно, как будто стараясь, чтобы штриховка не выходила за границы обведенного квадратика, но это все равно происходило. Нажим был сильным и карандаш вскоре затупился. После недолгого раздумья, Саша заменил его на темно-синий и продолжил дело. В целом рисунок производил очень неприятное впечатление, на самом деле, лишь честно передавая напряжение, которое испытывал его автор. В этот раз Сашина мама, на волне потрясения, уже без моей помощи связала рисунок сына со своим рассказом. Она наклонилась ко мне и почему-то шепотом сказала: «Я понятия не имела, насколько это ему тяжело…». И после небольшой заминки: «что он все-таки рисует?» «Тюрьму, конечно, - ответил я. – Без окон и без дверей». Эта сессия была решающей, поскольку женщина осознала, что родительское честолюбие привело ее сына к душевному заточению и неврозу. Она в первый раз, в рамках темы подготовки к школе, смогла отнестись к нему с сочувствием. Сашина мама в этой теме почти все время выступала как нерефлексивный и беспощадный моральный авторитет, словно была для своего сына архаическим – категоричным и ревнивым Богом. Наваливая на своего ребенка все новые упражнения и задачи, она чувствовала свою безусловную правоту и внутренне была уверена в полезности всего этого для будущего своего сына. Женщина не осознавала своей жестокости и того страха, который вызывала у своего ребенка. Несколько раз я видел на ее обращенном к сыну лице мимолетное выражение странной брезгливости, от которого даже я ощущал ужас и сильный стыд.
Не перестаешь удивляться тому, насколько точными порой бывают бессознательные содержания. Зачерняя клеточки, Саша символически показывал своему окружению, что происходит с его жизненной силой – она раз за разом (клеточек – много!)
фрагментируется и заточается во тьме. Она более не выходит на свет – ею не живут. Утрата целостности и живости это – традиционная цена, которую маленькие дети платят за адаптацию к ожиданиям взрослых. Но даже став взрослыми и самостоятельными людьми, мы временами оказываемся в точно таком же положении – наша спонтанность и жизненная сила, персонифицируемые образом ребенка, оказывается в травматическом заточении. А что происходит дальше, когда внутренний ребенок пациента уже заперт во Тьме? Каким образом эта «запертость» поддерживается на протяжении многих лет? Кто тюремщик? Каким образом можно распознать присутствие и работу травмы?
Дональд Калшед и «Внутренний мир травмы»
В начале 2000-х мы познакомились с книгой Дональда Калшеда «Внутренний мир травмы»[1], которая помогла целому поколению аналитиков ответить на эти и многие другие вопросы. Калшед ввел в обращение несколько важных идей. Во-первых, теперь травма рассматривается как самоорганизующаяся система, которая способна поддерживать гомеостатическое равновесие вокруг раненного внутреннего ребенка. Во- вторых, травма обрела персонификацию – т.н. «Травматического защитника» - архетипического агента системы самосохранения, в чьи задачи входит защита этого ребенка от повторного столкновения с травматическими переживаниями. «Немыслимое не должно быть пережито» и поэтому все потенциально опасные, аффективно емкие связи будут объектом атаки защитника. Персонификация травмы позволила распознавать ее присутствие в сновидениях, фантазиях и, отчасти, в пространстве переноса-контрпереноса. Травматический защитник стал доступен как псевдо-личность в рамках активного воображения. Появилась возможность управляемой коммуникации с травматической системой, которою он представляет.
В описании Дональда Калшеда, Травматический защитник – это амбивалентная нуминозная фигура с полномочиями Самости, которая и бережет, и уничтожает. Это сочетание заботы и жестокого насилия роднит ее с Яхве эпохи Ветхого Завета, каким мы Его знаем в истории с Иовом. В этой космогонической фазе архаический Бог еще морально не дифференцирован – он Яхве/Сатана, которому только предстоит трансформация в фигуру подлинного Спасителя. Но пока он пребывает в тупике status quo, который будет разрешен с помощью Иова. Чем более ранней является травма, тем ближе Травматический защитник к образу ветхозаветного Бога. К Самости, персонифицируемой этим амбивалентным образом, очень подходит прилагательное «архаическая». Для себя я использую термин «архаическая Самость» как синоним «Травматическому защитнику», во многом из-за емкой амплификации, представленной в «Книге Иова». Этот непростой сюжет, на мой взгляд, описывает основной паттерн взаимодействия травматической системы с познающим ее сознанием. Именно так Травматический защитник «проверяет на прочность» внешний объект, с которым у носителя травмы устанавливается теплая, а потому потенциально опасная эмоциональная связь. Любой, претендующий на душевную близость с таким человеком, и кто далеко продвинулся на этом пути, однажды невольно повторяет участь Иова – становится объектом деструктивного воздействия, приводящего к страданию и потере смысла. Очень редко этот паттерн представлен в сознании явно и зримо. Требуется постоянство объекта и время для «вызревания», например, в пространстве переноса-контрпереноса, тогда паттерн может быть подвергнут осознанной конфронтации и интерпретации[2].
Несмотря на болезненный драматизм Книги Иова, появление этого сюжета в аналитических отношениях – позитивный признак возросшего доверия к аналитику, к его постоянству и надежности. Прежде чем это случится, Травматический защитник долгое время действует «из засады», оставаясь «за кадром». Например, пациент может завершить сессию, ощущая теплую и надежную связь с собой и аналитиком, но следующая встреча начинается с холодного опустошения и напряженности – как будто никакого контакта, в который включился раненый ребенок, не было. Аффективно теплая связь оказывается уничтоженной Травматическим защитником как потенциально опасная. И аналитик никак не может повлиять на это. Все, что остается пациенту и аналитику – это раз за разом, сессию за сессией восстанавливать разрушенное.
Как-то я спросил одну такую пациентку, как долго после встречи остается с ней теплое ощущение, которого ей удалось достичь на сессии. Она немного подумала и ответила: «минут десять…». Потом, видимо прочитав что-то на моем лице, добавила: «Это еще ничего… Раньше оно исчезало прежде, чем я выходила из кабинета». Этот процесс можно видеть и в пределах кабинета.
Иногда, наблюдая за отношениями других людей можно увидеть, как один из партнеров по коммуникации «влипает» в неосознаваемую идентификацию с архаической Самостью, заставляя другого разделять участь Иова. Как, например, в случае Саши и его мамы и еще в одном примере, который я опишу позже. Как правило, речь идет о коротких включениях, которые сопровождаются изменениями в мимике, жестах и психологической атмосфере. Обобщенный образ такой: лицо на мгновение как будто немного бледнеет и застывает, транслируя очень сложное, амбивалентное сообщение о величии, заботе, жестокости, нежности, ярости, отстраненности. Атмосфера становится нуминозно насыщенной – проступивший лик одновременно пугает и привлекает. Этот противоречивый и мощный образ, как правило, не вмещается в сознание – мы, либо воспринимаем его усеченно (односторонне), либо вообще стремимся вытеснить. Чаще всего, он либо только пугает, либо только привлекает, либо отрицается. Субъект, как правило, не осознает факт идентификации – в эти моменты его «нет дома». Понятно, что бессознательность по отношению к этому опыту не освобождает от участия в паттерне Яхве/Сатана – Иов.
Травматический защитник уничтожает уже образовавшуюся аффективную связь. Но в арсенале травматической системы есть инструменты блокирующие и саму возможность формирования такой связи. В каком-то смысле, это первый рубеж обороны – внешняя стена убежища-тюрьмы, в которой прячется раненный ребенок. Эти инструменты также могут быть персонифицированы некими ролями и персонажами. Травматический защитник появляется на сцене, когда эти фигуры не справились и опасная связь все-таки образовалась. Их трое, вместе с защитником – четверо. Плюс – охраняемый, удерживаемый в заточении раненый ребенок. Вкупе они составляют «травматическую систему». Далее я приведу два случая, в которых эти персонажи так или иначе представлены.
Ребенок во тьме: «Эва: запертая в чулане»
Это случай молодой женщины, назовем ее Эвой, которая обратилась по поводу тяжелых переживаний, связанных с предразводной ситуацией у нее в семье. Женщина столкнулась с ситуацией измены мужа и ее привычный мир практически разрушился. Она довела себя до нервного истощения, устраивая за слежку за мужем и просматривая по ночам его телефон. Через пару месяцев работы ситуация немного стабилизировалась и в сознании Эвы всплыло воспоминание, относящееся к ее шестилетнему возрасту. И это был настоящий подарок рабочему альянсу, потому что всплывший материал содержал в себе емкое и очень точное отображение внутреннего процесса пациентки. Более того, именно этот материал послужил толчком для подготовки этого сообщения.
Однажды во время детской игры подружки заперли ее в темном чулане. Сначала это было частью игры. Девочка могла слышать их голоса, о чем они говорят, но ей нельзя было самой подавать голос – нужно было сидеть тише мыши. Потом пришла мама девочки и спросила про нее. Подружки в ответ рассказали какую-то историю, объяснив, таким образом, ее отсутствие и, тем самым, отправили мать по ложному следу. Когда мама ушла, девочка громко попросила выпустить ее, поскольку ей было не по себе от обмана, в котором она приняла участие. Но подружки продолжали вести себя так, словно бы не слыша ее. Они о чем-то говорили друг с другом и смеялись. Девочка кричала до хрипоты и стучалась в дверь, но все было безрезультатно.
Иногда одна подружка подходила к двери чулана и говорила, что вот-вот они выпустят ее – вот только найдут ключ, который случайно потеряли в суматохе – и волноваться не надо. Другая тоже что-то говорила, но девочка не могла разобрать слов – голос звучал издалека – вторая подружка не подходила к двери. Однако интонации ее голоса казались торжествующими и злыми. Через некоторое время девочка словно бы стала частью темноты чулана – она онемела, а время будто остановилось. Жизнь проходила где-то снаружи, но это уже не имело к ней никакого отношения. Другие люди жили за нее. Играли, кушали, общались с мамой…
Возможно, это самое точное описание того, что чувствует запертый во Тьме ребенок.
Опыт мучительный и жуткий[3]. Но особенный интерес представляют подруги запертой девочки. Когда воспоминание оформилось, именно их поведение вызвало у Эвы замешательство и страх. «Они словно бы работали номер! – Сказала она. – Действовали сообща, как добрый и злой полицейский». Действительно: одна утешала – вторая глумилась. Очень быстро женщина увидела такую же связку среди своих подруг, которые уже в современной жизни «помогали» ей справится с семейным кризисом.
- Что же это получается? – Растерянно спросила она. – И эти как-то меня запирают в чулан?
- В каком-то смысле – да. Вы ведь хотели перестать страдать? Ваша способность переживать - это ваш внутренний ребенок. Если он заперт в чулане и онемел - больше не кричит от боли и ужаса, то вы, по идее, должны успокоиться.
- Но ведь этого не происходит!
- Ага. Возможно ваша девочка, запертая в чулане, еще не сломалась и продолжает кричать.
Эву заинтриговал факт сходства в поведении ее детских и взрослых подруг, и она постепенно пришла к мысли, что она сама бессознательно как-то организует такую ситуацию. Она стала внимательней следить за собой, и поняла, что помощь подруг и в самом деле лишает ее возможности по-человечески встретиться и поговорить с мужем. Все, что она предпринимала под их влиянием, вело к рассогласованию и распаду. Не следует воспринимать подруг Эвы как «злодеек». Трудно не быть частью травматической системы близкого человека. Это требует высокой степени осознанности по отношению ко всем своим душевным движениям. Речь идет не только об агрессивных побуждениях, но и о самых, казалось бы, человечных, добрых намерениях. Инкапсулированный во Тьме ребенок в чем-то подобен «черной дыре», создающей гравитационную воронку, искажающую свет сознания не только носителя травмы, но и его окружения. Человек, чей внутренний ребенок пребывает в таком состоянии, невольно наделяет других специфическими функциями, в сущности, превращая их в фигуры, которые поддерживают инкапсуляцию.
После «науськиваний» «глумящейся подруги», Эва превращалась в неистовую мстительную фурию. Она тратила время на планы, в которых контролировала и уничтожала и любовницу мужа, и его самого. В результате этих планов муж должен был понять и проникнуться мыслью о том, насколько большую ценность представляет его жена. Проникнуться, а потом умереть в мучительном раскаянии. Эва также начинала готовиться к грандиозному рывку в карьере. В этой роли гудящая внутри агрессия давала ощущение уверенности и силы – женщине казалось, что она «наконец-то поднялась над ситуацией». Затем силы кончались, и она впадала в оцепенение. Далеко не сразу Эва смогла осознать типичность, повторяемость и бесперспективность этого состояния.
По мере знакомства с этим персонажем я понимал, что имею дело с типичной фигурой, присутствие которой обнаруживалось не только в случае Эвы, но и в некоторых других. Встал вопрос об амплификации. Поскольку фигура Травматического защитника уже отразилась в зеркале ветхозаветной мифологии, уместно искомый образ тоже взять оттуда.
Каин – первый, после изгнания из Рая, человеческий ребенок – сын Адама и Евы. Он – один из самых известных персонажей Ветхого Завета, чье имя практически стало нарицательным для озлобленного, ревнивого и завистливого человека, способного на подлости, вплоть до убийства по отношению к близким людям. Сюжет всем хорошо известен: братья Каин и Авель приносят Яхве благодарственную жертву, первый – корнеплоды, второй– агнца (Быт.4:2-4). Яхве принимает дар Авеля, дар Каина – отвергает (Быт.4:4-5). После чего Каин убивает Авеля и пытается скрыть убийство (Быт.4:8-9). После разоблачения Каин проклинается и изгоняется, хотя и остается под особым присмотром Яхве (Быт. 4:11-15).
В психологическом смысле, ветхозаветному Каину как личности хватает силы эго на сепарацию и последующую автономию – он основывает город и династию. Но подобно тому, как Травматический защитник не является полноценной Самостью, не стимулируя к росту, а лишь оберегая, Каин травматической системы также оказывается неполноценной и, в каком-то смысле, пародийной фигурой – «псевдо-Каином». Под его влиянием эго как будто становится энергичным – наполняется злобной, мстительной решимостью, но для поддержания этого состояния нужен другой, который своим страхом, благоговением или собственной злостью будет поддерживать и придавать смысл всей этой сомнительной «бодрости». Травматическая система не заинтересована в развитии, поэтому мстительный потенциал псевдо-Каина лишен сепарационного смысла и потому не приносит ничего нового, лишь приводя эго к истощению и бессилию. Чаще всего до реальных действий дело не доходит вовсе.
Для того чтобы понять восприятие мира псевдо-Каином вспомните, как завидовали в детстве сами. Добавьте к этому опыту ощущение, что у вас ничего нет, кроме того, чем владеет объект вашей зависти. Сознание сужается, превращаясь в трубу, по которой течет ненависть.
После разговоров с «помогающей подругой», Эва верила в лучшее и пыталась вести себя так, словно ничего фатального не произошло – она была любезна и внимательна к мужу, который, кстати, здорово нервничал в такие моменты. Жена казалось ему неадекватной и непредсказуемой – «бомбой, которая вот-вот рванет». Женщина же внутренне настраивалась на прощение и принятие. И ей нравилось свое отражение в зеркале – немного возвышенное и доброе. Но очень быстро она уставала от этого и могла сорваться на крик из-за мелочи.
«Помогающая подруга» воспроизводила модель поведения, которую можно соотнести с Авелем травматической системы. Как мы знаем, в Ветхом Завете Авель – это счастливчик, чья благодарственная жертва принята Яхве. С психологической точки зрения, Авель, как личность имеет связь с Самостью, т.е. обладает доступом к душевному равновесию и непосредственному переживанию живого смысла своей судьбы – своего рода просветленным. Недаром, в Новом Завете, Иисус называет Авеля «праведником» (Мф. 23:35). Псевдо-Авель тоже предстает кротким и заботливым «аки агнец». Но от его заботы невозможно получить поддержку. Скорее наоборот, потому что, псевдо-Авель заботиться и проповедует, упрекая. Смирение перед божественной волей от проповедей псевдо-Авеля превращается в бессилие и унижение. Как и в случае воздействия псевдо-Каина, псевдо-Авель приводит эго к истощению и ощущению, что не ты достоин хорошего. В этом депрессивном состоянии невозможно претендовать на связь.
Обе роли, в которых оказывалась женщина, истощали, потому что не были напрямую связаны с ее истинными потребностями. Репрезентирующий эти потребности внутренний ребенок пребывал в заточении, и потому Эва не могла почувствовать, ощутить, понять, чего она хочет на самом деле. Вместо этого она погружалась в архетипические формы переживания – то в праведное воодушевление, то в мстительную решительность.
--
[1] Калшед Д. Внутренний мир травмы. Екатеринбург, Академический проект.2001
[2] Кононов Р.А. Зло: от мифологии к психологическим смыслам/Теменос. Альманах глубинной психологии
№5. Екатеринбург, 2012.
[3] Описанный эпизод не является исходной точкой травмы, поскольку слишком хорошо структурирован и вербализован; скорее это одно из ярких звеньев цепочки ретравматизаций, начало которой уходит в опыт младенческого отвержения.
Содержания или внутренние фигуры, с которыми моя пациентка идентифицировалась, каждая по своему отвлекала ее эго от осознания и проживания действительных
страданий внутреннего ребенка. В каком-то смысле, оберегая его, фигуры в тоже время и паразитировали на нем. И в этом нет ничего удивительного. Когда течение энергии по оси эго-Самость нарушается из-за травмы, фрагментарные элементы – комплексы стремятся захватить этот поток в свое распоряжение – подобно подругам из воспоминания Эвы, пытаясь жить вместо нее[1]. В этом плане, детское воспоминание оказалось настоящим подарком. Образ запертого в чулане ребенка служил Эве надежным ориентиром в сложившейся ситуации и, конце концов, помог совладать с патогенными ролями. Когда травматическое отыгрывание приостановилось, Эва постепенно поняла, насколько сильный страх и вину она испытывает перед запертым ребенком. Это было почти нуминозным переживанием.
- Я не могу подойти к двери чулана и выпустить ребенка! Просто не могу!
- Почему?
- Я боюсь все совсем испортить… А если он не захочет выходить? А если он там уже умер?
- Эва, если вы все это сейчас чувствуйте, то он – определенно жив! Кроме того, вы, возможно, волнуетесь совсем не зря – когда долго сидишь в темноте, к свету нужно привыкать постепенно…
- (после паузы) Но чем все-таки я могу ему помочь?
- Будьте с собой сейчас. Со своим телом, с ощущениями и чувствами… Разрешите себе уединение.
- (после паузы, с легкой улыбкой) Уединение – это когда дверь чулана открыта, а ты можешь выйти из него, а можешь остаться?
- Ага. Очень точно!
Благодаря случаю Эвы я смог вполне четко увидеть работу травматической системы, которая в этот раз персонифицировалась не Защитником, обрывающим связи, а двумя новыми персонажами, которые не допускали ее образования. Они действовали согласовано и в плане статуса и влияния были примерно равны и симметричны. В какой- то момент Эва воспринимала их как «сестер». А для себя я назвал их «травматическими сиблингами». И это тоже члены «травматической семейки».
Ребенок во тьме: Виктор и игры в «темную»
У некоторых из нас есть опыт участие в жестокой групповой процедуре, которую,
обычно, называют «Темной». Одному, в чем-то провинившемуся члену группы, на голову внезапно накидывается одеяло или куртка, а затем участники молча наносят жертве
некое количество ударов. После чего разбегаются. В этой игре-наказании важным элементом является т.н. «справедливость» - жертва, обычно, знает заранее, что сделала дурное по отношению к остальным членам группы. Ей об этом специально объявляется.
При этом палачи анонимны – тот, кому «устраивают темную» лишен возможности видеть в лицо своих обидчиков. Как будто наказывает некая безличная, архетипическая сила.
Виктор в прошлом спортсмен. Подростком он был на сборах и однажды невольно сорвал тайную вечеринку, проговорившись о ней тренеру. Ведомые священной яростью, товарищи по команде устроили ему «темную» и даже сломали ребро. Эта история была рассказана уже на первой встрече, но долгое время было непонятно, куда ее «приткнуть». Виктор имел трудности в отношениях с женщинами, по поводу которых и обратился. В определенный момент он понял, что время пришло завести семью и детей, но попытка за попыткой оказывались неудачными. Подруги оставляли его, и было непонятно почему. Он был щедрым кавалером – сорокапятилетний мужчина в хорошей физической форме – социально организованный и вполне обеспеченный.
Спустя некоторое время работы, нам удалось понять, что энергия в интересующей Виктора теме, сконцентрирована, а точнее – заперта в сценах его отвержения женщинами. От недоумевающе-презрительного выражения лица матери, когда маленький Витя закричал и заплакал, отказываясь ехать к бабушке; до вежливого и спокойного объяснения последней подруги. Она сказала что-то вроде: «Знаешь, когда я принимаю от тебя подарки, я чувствую, как меня становится меньше. Это не для меня, извини!»
Постепенно, пройдя этапы жесткого обвинения своих бывших подруг и попыток самоусовершенствования во избежание новых отказов, Виктор смог приблизится к
обозначению своих действительных переживаний. Но в какой-то момент процесс уперся в то, что можно условно описать как ощущение «плохости». Аналитикам эта тема хорошо знакома. Она связана с ранним родительским неприятием ребенка. В структурном смысле, «плохость» - результат контакта эго с архаической недифференцированной Самостью. Качество такого контакта хорошо представлено в ветхозаветной «Книге Иова»[2].
Обычно этот опыт прячется глубоко внутри – настолько много в нем стыда, ужаса и
унижения – он, в полном смысле слова, травматичен. Получить к нему доступ в рамках
анализа – ободряющий признак продвижения в работе. Но в случае Виктора, «плохость» была чем-то иным, хотя вход в это состояние также происходил как будто через короткий всплеск стыда. Пребывая в «плохости», ощущая себя ущербным, Виктор, тем не менее, не делал ничего, чтобы как-то изменить происходящее. Он жаловался на страдание, но отвергал помощь. Прошло прилично времени, прежде чем я понял, что его страдание было неприкосновенным. Позитивной динамики не было. Однажды я поймал себя на
фантазии, в которой Виктор был представлен горько ухмыляющимся бомжом, который говорил что-то вроде: «я на самом дне, я не ценю свою жизнь, ты ничего не сможешь сделать со мной!». Этакий псевдо-Иов: «мы настолько близки с моей болью, что мне не
больно!». В контрепереносе это рождало у меня бессилие и злость – контакт терял смысл. Похожее происходило со всеми женщинами моего пациента. Немудрено, что ему приходилось быть особенно щедрым, чтобы удержать партнера в отношениях, которые, по сути, были деструктивными. Впрочем, к этому моменту мы уже знали, что этот паттерн распространяется на всех, кто пытался приблизиться к Виктору, вне зависимости от пола.
Ключевым моментом в работе стало сновидение, точнее несколько, объединенных одним сюжетом. В нем мальчишке устраивали «Темную». В одном сновидении Виктор видел это как бы со стороны; в другом – наносил удары сам и затем торжествующе
убегал; в третьем, самом сложном – сначала, с чувством яростной справедливости бил по строительному мешку, в котором кто-то свернулся в клубок, а затем, испытывая
мучительное раскаяние и вину, пытался развязать горловину мешка.
Виктор устраивал «темную» своему внутреннему ребенку всякий раз, когда потребность в близости хоть как-то обозначала себя. Иногда на сессиях его лицо принимало суровое и возвышенное выражение. Однажды, описав Виктору эту картину, я спросил: «с чем связан этот торжественный пафос?». Но он смешался и не смог ничего сказать, потому что, на самом деле, не осознавал происходящего. Но после сновидений стало понятно: в эти моменты творилась «справедливость»! Подлинным Иовом оказывался внутренний ребенок, которого любила и праведно мучила архаическая Самость. Возможно, торжественное и суровое лицо Виктора отражало невольную идентификацию с ней. Когда потребность оказывалась успешно подавлена – убрана во Тьму, на сцену выходил псевдо-Иов – страдающий и неприступный, не давая интерперсональной связи ни одного шанса. Как и два уже описанных выше члена травматической системы, псевдо-Иов паразитирует на внутреннем ребенке и также точно препятствует образованию связи.
Травматическая система: игры и роли
Итак, у нас пять членов «травматической семейки»: Травматический защитник – архаическая Самость(Яхве/Сатана), псевдо-Каин, псевдо-Авель, псевдо-Иов и, конечно, запертый во Тьме раненный ребенок. Графически, систему можно представить в виде креста, образованного попарно сгруппированными осями отношений. Архаическая Самость – псевдо-Иов (вертикальная ось); псевдо-Каин – псевдо-Авель (горизонтальная ось). В месте пересечения осей, находится запертый во Тьме ребенок. Он является
охраняемым центром системы и ее энергетическим источником.
страданий внутреннего ребенка. В каком-то смысле, оберегая его, фигуры в тоже время и паразитировали на нем. И в этом нет ничего удивительного. Когда течение энергии по оси эго-Самость нарушается из-за травмы, фрагментарные элементы – комплексы стремятся захватить этот поток в свое распоряжение – подобно подругам из воспоминания Эвы, пытаясь жить вместо нее[1]. В этом плане, детское воспоминание оказалось настоящим подарком. Образ запертого в чулане ребенка служил Эве надежным ориентиром в сложившейся ситуации и, конце концов, помог совладать с патогенными ролями. Когда травматическое отыгрывание приостановилось, Эва постепенно поняла, насколько сильный страх и вину она испытывает перед запертым ребенком. Это было почти нуминозным переживанием.
- Я не могу подойти к двери чулана и выпустить ребенка! Просто не могу!
- Почему?
- Я боюсь все совсем испортить… А если он не захочет выходить? А если он там уже умер?
- Эва, если вы все это сейчас чувствуйте, то он – определенно жив! Кроме того, вы, возможно, волнуетесь совсем не зря – когда долго сидишь в темноте, к свету нужно привыкать постепенно…
- (после паузы) Но чем все-таки я могу ему помочь?
- Будьте с собой сейчас. Со своим телом, с ощущениями и чувствами… Разрешите себе уединение.
- (после паузы, с легкой улыбкой) Уединение – это когда дверь чулана открыта, а ты можешь выйти из него, а можешь остаться?
- Ага. Очень точно!
Благодаря случаю Эвы я смог вполне четко увидеть работу травматической системы, которая в этот раз персонифицировалась не Защитником, обрывающим связи, а двумя новыми персонажами, которые не допускали ее образования. Они действовали согласовано и в плане статуса и влияния были примерно равны и симметричны. В какой- то момент Эва воспринимала их как «сестер». А для себя я назвал их «травматическими сиблингами». И это тоже члены «травматической семейки».
Ребенок во тьме: Виктор и игры в «темную»
У некоторых из нас есть опыт участие в жестокой групповой процедуре, которую,
обычно, называют «Темной». Одному, в чем-то провинившемуся члену группы, на голову внезапно накидывается одеяло или куртка, а затем участники молча наносят жертве
некое количество ударов. После чего разбегаются. В этой игре-наказании важным элементом является т.н. «справедливость» - жертва, обычно, знает заранее, что сделала дурное по отношению к остальным членам группы. Ей об этом специально объявляется.
При этом палачи анонимны – тот, кому «устраивают темную» лишен возможности видеть в лицо своих обидчиков. Как будто наказывает некая безличная, архетипическая сила.
Виктор в прошлом спортсмен. Подростком он был на сборах и однажды невольно сорвал тайную вечеринку, проговорившись о ней тренеру. Ведомые священной яростью, товарищи по команде устроили ему «темную» и даже сломали ребро. Эта история была рассказана уже на первой встрече, но долгое время было непонятно, куда ее «приткнуть». Виктор имел трудности в отношениях с женщинами, по поводу которых и обратился. В определенный момент он понял, что время пришло завести семью и детей, но попытка за попыткой оказывались неудачными. Подруги оставляли его, и было непонятно почему. Он был щедрым кавалером – сорокапятилетний мужчина в хорошей физической форме – социально организованный и вполне обеспеченный.
Спустя некоторое время работы, нам удалось понять, что энергия в интересующей Виктора теме, сконцентрирована, а точнее – заперта в сценах его отвержения женщинами. От недоумевающе-презрительного выражения лица матери, когда маленький Витя закричал и заплакал, отказываясь ехать к бабушке; до вежливого и спокойного объяснения последней подруги. Она сказала что-то вроде: «Знаешь, когда я принимаю от тебя подарки, я чувствую, как меня становится меньше. Это не для меня, извини!»
Постепенно, пройдя этапы жесткого обвинения своих бывших подруг и попыток самоусовершенствования во избежание новых отказов, Виктор смог приблизится к
обозначению своих действительных переживаний. Но в какой-то момент процесс уперся в то, что можно условно описать как ощущение «плохости». Аналитикам эта тема хорошо знакома. Она связана с ранним родительским неприятием ребенка. В структурном смысле, «плохость» - результат контакта эго с архаической недифференцированной Самостью. Качество такого контакта хорошо представлено в ветхозаветной «Книге Иова»[2].
Обычно этот опыт прячется глубоко внутри – настолько много в нем стыда, ужаса и
унижения – он, в полном смысле слова, травматичен. Получить к нему доступ в рамках
анализа – ободряющий признак продвижения в работе. Но в случае Виктора, «плохость» была чем-то иным, хотя вход в это состояние также происходил как будто через короткий всплеск стыда. Пребывая в «плохости», ощущая себя ущербным, Виктор, тем не менее, не делал ничего, чтобы как-то изменить происходящее. Он жаловался на страдание, но отвергал помощь. Прошло прилично времени, прежде чем я понял, что его страдание было неприкосновенным. Позитивной динамики не было. Однажды я поймал себя на
фантазии, в которой Виктор был представлен горько ухмыляющимся бомжом, который говорил что-то вроде: «я на самом дне, я не ценю свою жизнь, ты ничего не сможешь сделать со мной!». Этакий псевдо-Иов: «мы настолько близки с моей болью, что мне не
больно!». В контрепереносе это рождало у меня бессилие и злость – контакт терял смысл. Похожее происходило со всеми женщинами моего пациента. Немудрено, что ему приходилось быть особенно щедрым, чтобы удержать партнера в отношениях, которые, по сути, были деструктивными. Впрочем, к этому моменту мы уже знали, что этот паттерн распространяется на всех, кто пытался приблизиться к Виктору, вне зависимости от пола.
Ключевым моментом в работе стало сновидение, точнее несколько, объединенных одним сюжетом. В нем мальчишке устраивали «Темную». В одном сновидении Виктор видел это как бы со стороны; в другом – наносил удары сам и затем торжествующе
убегал; в третьем, самом сложном – сначала, с чувством яростной справедливости бил по строительному мешку, в котором кто-то свернулся в клубок, а затем, испытывая
мучительное раскаяние и вину, пытался развязать горловину мешка.
Виктор устраивал «темную» своему внутреннему ребенку всякий раз, когда потребность в близости хоть как-то обозначала себя. Иногда на сессиях его лицо принимало суровое и возвышенное выражение. Однажды, описав Виктору эту картину, я спросил: «с чем связан этот торжественный пафос?». Но он смешался и не смог ничего сказать, потому что, на самом деле, не осознавал происходящего. Но после сновидений стало понятно: в эти моменты творилась «справедливость»! Подлинным Иовом оказывался внутренний ребенок, которого любила и праведно мучила архаическая Самость. Возможно, торжественное и суровое лицо Виктора отражало невольную идентификацию с ней. Когда потребность оказывалась успешно подавлена – убрана во Тьму, на сцену выходил псевдо-Иов – страдающий и неприступный, не давая интерперсональной связи ни одного шанса. Как и два уже описанных выше члена травматической системы, псевдо-Иов паразитирует на внутреннем ребенке и также точно препятствует образованию связи.
Травматическая система: игры и роли
Итак, у нас пять членов «травматической семейки»: Травматический защитник – архаическая Самость(Яхве/Сатана), псевдо-Каин, псевдо-Авель, псевдо-Иов и, конечно, запертый во Тьме раненный ребенок. Графически, систему можно представить в виде креста, образованного попарно сгруппированными осями отношений. Архаическая Самость – псевдо-Иов (вертикальная ось); псевдо-Каин – псевдо-Авель (горизонтальная ось). В месте пересечения осей, находится запертый во Тьме ребенок. Он является
охраняемым центром системы и ее энергетическим источником.
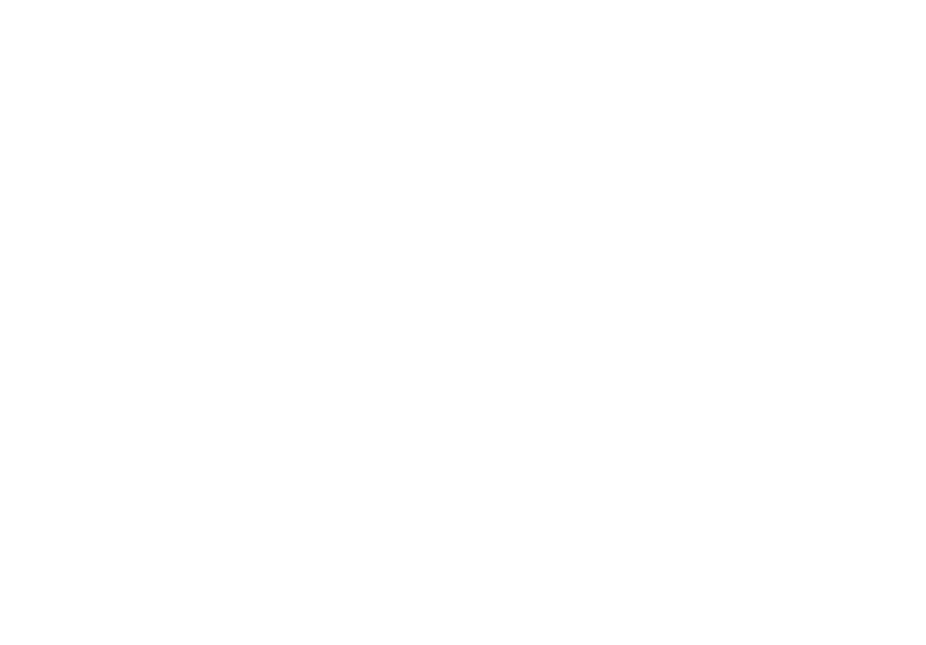
Эго носителя травмы является внешним по отношению к описанному пространству.
Ему отказано в прямом контакте с раненым ребенком. И если бы не интегративная
тенденция, которая стремится вернуть отсеченные и потерянные содержания в область актуального осознанного опыта, однажды спрятанный во Тьму ребенок, оставался бы там вечно. Другими словами, носитель травмы обречен на поиски потери, раз за разом сталкиваясь с защитной активностью травматической системы. Иногда описанные персонажи посредством проекций обнаруживаются во внешних объектах, а иногда эго само влипает в бессознательную идентификацию, отыгрывая уже известные нам сюжеты. В аналитической ситуации встречаются оба варианта.
Поскольку о Травматическом защитнике благодаря работе Калшеда нам уже многое известно, давайте рассмотрим трех новых персонажей травматической системы с точки зрения их установок и динамики.
Псевдо-Иов
Установка: «управляешь страданием – управляешь всем»
Основная динамика описывается тремя деструктивными «играми».
Первую можно назвать «Кому больнее». Побеждает тот, кто докажет партнеру, что его страдания сильнее. Псевдо-Иов почти всегда выигрывает, потому что реальное страдание трудно показать Другому из-за ощущения уязвимости и стыда, а Псевдо-Иов делает это
легко и напоказ. Игра повреждает у партнера внутренние связи со своим внутренним ребенком – собственные потребности начинают восприниматься искаженно, как нечто неуместное и фальшивое.
Вторая игра называется «Ну позаботься же обо мне». Побеждает тот, кто спровоцирует Другого на открытый акт заботы или участия («Мне плохо, почему ты ничего не делаешь для меня?»), который затем будет более-менее тонко отвергнут («Мне от тебя ничего не надо»). Переиграть псевдо-Иова в этой игре практически невозможно – он настоящий мастер вторичной выгоды. Умение вымогать помощь в сочетании со способностью
эффективно упрекать в случае отказа. В этой игре повреждается способность Другого к эмпатии и душевной заботе.
Третья игра – «А мне не больно». Побеждает тот, кто спровоцирует Другого на
агрессивное поведение, которое не приводит ни каким изменениям. Все удары как будто проходят мимо цели или не вызывают никакого отклика. Спровоцированный Другой остается в бессилии и унижении. Эта игра парализует коммуникативную инициативу и
способность к самораскрытию.
Обобщающее послание Другому: «ты плох и бесполезен! Ты ничем не можешь мне помочь и это твое экзистенциальное поражение!»
Псевдо-Каин
Установка: «справедливая война до полного уничтожения».
Основная динамика описывается тремя деструктивными «играми».
Первую игру можно обозначить как «Сразись и проиграй, иначе уничтожу». Псевдо-Каин провоцирует другого на конкуренцию, драку, спор или соревнование, проиграв которые партнер остается в унижении, злости и бессилии. Победить в этой игре очень трудно, поскольку псевдо-Каин, как и его ветхозаветный прототип, проклят Богом и ему нечего терять, поэтому он не стесняется в средствах – а честное соревнование невозможно под угрозой уничтожения. Игра особенно эффективна, если партнер не осознает эту угрозу. Подобно тому, как война отнимает у страны силы и садит население на голодный паек, игра «Сразись и проиграй» приводит к истощению и внутренней пустоте, лишая доступа к ресурсам созидания и любви. Возможно, эта игра как ничто другое загоняет во Тьму внутреннего ребенка, поэтому вовлечься в нее уже означает потерпеть поражение.
Название второй игры на фоне первой звучит парадоксально: «Береги меня». Псевдо- Каин проклят и поэтому он всегда в моральном надломе. Он – архетипический сирота,
обреченный на вечные скитания. На этой волне он предстает в амплуа печального изгнанника и провоцирует у партнера жалость, хотя может вести себя злобно и обесценивающее. Для аналитика, который неосознанно включился в игру «Береги меня», области клиентского опыта, защищенные псевдо-Каином, да и он сам становятся неприкосновенными для интервенций. Нельзя интерпретировать, исследовать и даже присоединяться. Иногда эти области опыта персонифицируются конкретными воспоминаниями или даже людьми. Например, в зоне умолчания может оказаться родительская фигура и, странным образом, аналитик может не замечать этого. В отличие от первой игры, вход во вторую происходит незаметно и приводит к психотехническому параличу.
Третья игра называется «Найти справедливость». В жизни псевдо-Каина, как и его ветхозаветного прототипа (отвергнутая благодарственная жертва), справедливость, а
точнее, ее отсутствие играет очень важную роль. Эта игра начинается с того, что псевдо- Каин замечает факт неравенства, намек или, вообще, фантазию о нем. С этого момента персонаж «заводится» и начинает агрессивно выяснять причину несправедливости.
Объяснениями и уступками процесс не остановить. Он может длиться очень долго, то уходя на глубину, то вновь всплывая в неизменном виде. Один пациент, беря сдачу от аналитика, заметил, что тот сдал ее мелкими купюрами, хотя в кошельке была одна крупная – как раз в размер сдачи. Это стало многомесячным поводом для трансферентного упрека. Аналитик перепробовал многое, чтобы изъять эту тему из рабочего поля, но сработало лишь одно. Однажды на очередное «почему», он ответил: «Да потому что, мне так было удобно!». И это выключило игру псевдо-Каина. Похоже, что игра «Найти справедливость» заставляет другого прятать, в том числе и от себя самого, свои действительные потребности. Соответственно, восстановление контакта с ними исправляет ситуацию.
Обобщающее послание псевдо-Каина Другому: «ты снова и снова все портишь! Твой дефект, твоя плохость – неустранимы!»
Псевдо-Авель
Установка: «доброта обезоруживает и упрекает».
Основная динамика описывается тремя деструктивными «играми».
Первую можно назвать «Поймай грешника». Выигрывает тот, кому удается спровоцировать другого на раздраженное, нетерпеливое поведение или резкие высказывания. Тогда победитель может мягко, порой почти незаметно упрекнуть в несдержанности, подчеркивая свое морально-нравственное превосходство. Дополняет игру псевдо-Иова «А мне не больно» и вызывает аналогичные последствия – блокирует спонтанность.
Вторая игра носит название «Присоединяйся к избранным». Псевдо-Авель дает
понять другому, что видит его как члена некой особой общности, состоящих из морально чистых, любимых Господом людей – «Ну мы то с вами понимаем…». Другому порой достаточно лишь кивнуть, чтобы подписаться на кабальный контракт соответствовать некоему недостижимому высоко духовному идеалу. Понятно, что все критерии соответствия, читай: рычаги управления, находятся в руках победителя. Проигравший утрачивает ощущение внутренней свободы, а также и контакт со своими инстинктами, которые явно лишние в этом «приличном обществе».
Третья игра называется «Принимай заботу». Она отчасти напоминает маркетинговые маневры телемагазинов, когда ты оказываешься потребителем услуги, которая тебе даром не нужна. В этой игре побеждает тот, кому удается навязать другому некую
потребность, вокруг которой теперь можно организовать свое контролирующее
поведение. Типичный пример: «Помните, четыре сессии назад вы расстроились от моих слов о том-то и том-то? Я хочу вас утешить, дело в том, что…». Аналитик может не помнить такого момента; он, на самом деле, мог вовсе не испытывать никакого расстройства; наконец, этого эпизода могло не быть вовсе. Но особенность психологической атмосферы, «наведенной» псевдо-Авелем в том, что аналитику как будто легче согласится с предъявленной картинкой, чем оспорить ее. В этом случае, он предстает в жестокой отвергающей роли и на сцене псевдо-Авеля сменяет псевдо-Иов с игрой «Кому больнее». Однако согласившись, аналитик нарушает собственное представление о реальности, теряет уверенность и попадает под контроль травматической системы клиента. Лучшей корректирующей установкой является
отношение к игре «Принимай заботу» как к бессознательной продукции – фантазии, которую можно принимать и исследовать.
Обобщающее послание псевдо-Авеля Другому: «ты снова не готов! Ты недостоин доверия, потому что не можешь справиться со своей плохостью! Ты еще не очистился!»
Отдельная тема – встреча двух травматических систем в коммуникативном пространстве. Например, пациента и аналитика. Что будет если встретятся два псевдо- Каина? Не в этом ли один из секретов негативной терапевтической реакции.
Заключение
Все три персонажа и Травматический защитник составляют единую цепь, по которой циркулирует энергия травматической системы, активизируя, в соответствии с требованиями момента, ту или иную фигуру со своим игровым инструментарием.
Девять описанных патогенных игр провоцируют раз за разом повторяющееся отыгрывание, которое, однако, не приводит к появлению нового опыта. И это понятно, ведь они предназначены для иного - удержания во Тьме внутреннего ребенка, который является действительным источником новых смыслов. «Влипая» в патогенные игры, мы как аналитики во многом разделяем участь этого ребенка. И никто не любит такие ситуации из-за ощущения потери контроля над своей жизнью. Но сам факт «влипания» указывает, что мы на верном пути к «чулану». Игры в этом смысле оказываются чем-то вроде колдовских иллюзий, которые Иван-царевич разоблачает одну за другой на пути к своей цели. Для продуктивной работы аналитику важно научится распознавать и отстраиваться от патогенных игр, чтобы затем, в свою очередь, помочь пациенту увидеть эти повторяющиеся сюжеты в своем поведении и выйти из идентификации с ними. Тогда, в конце концов, он сможет услышать голос своего внутреннего ребенка и возможно захочет вывести его из Тьмы.
[1] Пьеса Мольера «Тартюф или обманщик» - прекрасная иллюстрация того, как работают в одном человекев связке работают псевдо-Авель и псевдо-Каин.
[2] Кононов Р.А. Зло: от мифологии к психологическим смыслам/Теменос. Альманах глубинной психологии №5. Екатеринбург, 2012.
Ему отказано в прямом контакте с раненым ребенком. И если бы не интегративная
тенденция, которая стремится вернуть отсеченные и потерянные содержания в область актуального осознанного опыта, однажды спрятанный во Тьму ребенок, оставался бы там вечно. Другими словами, носитель травмы обречен на поиски потери, раз за разом сталкиваясь с защитной активностью травматической системы. Иногда описанные персонажи посредством проекций обнаруживаются во внешних объектах, а иногда эго само влипает в бессознательную идентификацию, отыгрывая уже известные нам сюжеты. В аналитической ситуации встречаются оба варианта.
Поскольку о Травматическом защитнике благодаря работе Калшеда нам уже многое известно, давайте рассмотрим трех новых персонажей травматической системы с точки зрения их установок и динамики.
Псевдо-Иов
Установка: «управляешь страданием – управляешь всем»
Основная динамика описывается тремя деструктивными «играми».
Первую можно назвать «Кому больнее». Побеждает тот, кто докажет партнеру, что его страдания сильнее. Псевдо-Иов почти всегда выигрывает, потому что реальное страдание трудно показать Другому из-за ощущения уязвимости и стыда, а Псевдо-Иов делает это
легко и напоказ. Игра повреждает у партнера внутренние связи со своим внутренним ребенком – собственные потребности начинают восприниматься искаженно, как нечто неуместное и фальшивое.
Вторая игра называется «Ну позаботься же обо мне». Побеждает тот, кто спровоцирует Другого на открытый акт заботы или участия («Мне плохо, почему ты ничего не делаешь для меня?»), который затем будет более-менее тонко отвергнут («Мне от тебя ничего не надо»). Переиграть псевдо-Иова в этой игре практически невозможно – он настоящий мастер вторичной выгоды. Умение вымогать помощь в сочетании со способностью
эффективно упрекать в случае отказа. В этой игре повреждается способность Другого к эмпатии и душевной заботе.
Третья игра – «А мне не больно». Побеждает тот, кто спровоцирует Другого на
агрессивное поведение, которое не приводит ни каким изменениям. Все удары как будто проходят мимо цели или не вызывают никакого отклика. Спровоцированный Другой остается в бессилии и унижении. Эта игра парализует коммуникативную инициативу и
способность к самораскрытию.
Обобщающее послание Другому: «ты плох и бесполезен! Ты ничем не можешь мне помочь и это твое экзистенциальное поражение!»
Псевдо-Каин
Установка: «справедливая война до полного уничтожения».
Основная динамика описывается тремя деструктивными «играми».
Первую игру можно обозначить как «Сразись и проиграй, иначе уничтожу». Псевдо-Каин провоцирует другого на конкуренцию, драку, спор или соревнование, проиграв которые партнер остается в унижении, злости и бессилии. Победить в этой игре очень трудно, поскольку псевдо-Каин, как и его ветхозаветный прототип, проклят Богом и ему нечего терять, поэтому он не стесняется в средствах – а честное соревнование невозможно под угрозой уничтожения. Игра особенно эффективна, если партнер не осознает эту угрозу. Подобно тому, как война отнимает у страны силы и садит население на голодный паек, игра «Сразись и проиграй» приводит к истощению и внутренней пустоте, лишая доступа к ресурсам созидания и любви. Возможно, эта игра как ничто другое загоняет во Тьму внутреннего ребенка, поэтому вовлечься в нее уже означает потерпеть поражение.
Название второй игры на фоне первой звучит парадоксально: «Береги меня». Псевдо- Каин проклят и поэтому он всегда в моральном надломе. Он – архетипический сирота,
обреченный на вечные скитания. На этой волне он предстает в амплуа печального изгнанника и провоцирует у партнера жалость, хотя может вести себя злобно и обесценивающее. Для аналитика, который неосознанно включился в игру «Береги меня», области клиентского опыта, защищенные псевдо-Каином, да и он сам становятся неприкосновенными для интервенций. Нельзя интерпретировать, исследовать и даже присоединяться. Иногда эти области опыта персонифицируются конкретными воспоминаниями или даже людьми. Например, в зоне умолчания может оказаться родительская фигура и, странным образом, аналитик может не замечать этого. В отличие от первой игры, вход во вторую происходит незаметно и приводит к психотехническому параличу.
Третья игра называется «Найти справедливость». В жизни псевдо-Каина, как и его ветхозаветного прототипа (отвергнутая благодарственная жертва), справедливость, а
точнее, ее отсутствие играет очень важную роль. Эта игра начинается с того, что псевдо- Каин замечает факт неравенства, намек или, вообще, фантазию о нем. С этого момента персонаж «заводится» и начинает агрессивно выяснять причину несправедливости.
Объяснениями и уступками процесс не остановить. Он может длиться очень долго, то уходя на глубину, то вновь всплывая в неизменном виде. Один пациент, беря сдачу от аналитика, заметил, что тот сдал ее мелкими купюрами, хотя в кошельке была одна крупная – как раз в размер сдачи. Это стало многомесячным поводом для трансферентного упрека. Аналитик перепробовал многое, чтобы изъять эту тему из рабочего поля, но сработало лишь одно. Однажды на очередное «почему», он ответил: «Да потому что, мне так было удобно!». И это выключило игру псевдо-Каина. Похоже, что игра «Найти справедливость» заставляет другого прятать, в том числе и от себя самого, свои действительные потребности. Соответственно, восстановление контакта с ними исправляет ситуацию.
Обобщающее послание псевдо-Каина Другому: «ты снова и снова все портишь! Твой дефект, твоя плохость – неустранимы!»
Псевдо-Авель
Установка: «доброта обезоруживает и упрекает».
Основная динамика описывается тремя деструктивными «играми».
Первую можно назвать «Поймай грешника». Выигрывает тот, кому удается спровоцировать другого на раздраженное, нетерпеливое поведение или резкие высказывания. Тогда победитель может мягко, порой почти незаметно упрекнуть в несдержанности, подчеркивая свое морально-нравственное превосходство. Дополняет игру псевдо-Иова «А мне не больно» и вызывает аналогичные последствия – блокирует спонтанность.
Вторая игра носит название «Присоединяйся к избранным». Псевдо-Авель дает
понять другому, что видит его как члена некой особой общности, состоящих из морально чистых, любимых Господом людей – «Ну мы то с вами понимаем…». Другому порой достаточно лишь кивнуть, чтобы подписаться на кабальный контракт соответствовать некоему недостижимому высоко духовному идеалу. Понятно, что все критерии соответствия, читай: рычаги управления, находятся в руках победителя. Проигравший утрачивает ощущение внутренней свободы, а также и контакт со своими инстинктами, которые явно лишние в этом «приличном обществе».
Третья игра называется «Принимай заботу». Она отчасти напоминает маркетинговые маневры телемагазинов, когда ты оказываешься потребителем услуги, которая тебе даром не нужна. В этой игре побеждает тот, кому удается навязать другому некую
потребность, вокруг которой теперь можно организовать свое контролирующее
поведение. Типичный пример: «Помните, четыре сессии назад вы расстроились от моих слов о том-то и том-то? Я хочу вас утешить, дело в том, что…». Аналитик может не помнить такого момента; он, на самом деле, мог вовсе не испытывать никакого расстройства; наконец, этого эпизода могло не быть вовсе. Но особенность психологической атмосферы, «наведенной» псевдо-Авелем в том, что аналитику как будто легче согласится с предъявленной картинкой, чем оспорить ее. В этом случае, он предстает в жестокой отвергающей роли и на сцене псевдо-Авеля сменяет псевдо-Иов с игрой «Кому больнее». Однако согласившись, аналитик нарушает собственное представление о реальности, теряет уверенность и попадает под контроль травматической системы клиента. Лучшей корректирующей установкой является
отношение к игре «Принимай заботу» как к бессознательной продукции – фантазии, которую можно принимать и исследовать.
Обобщающее послание псевдо-Авеля Другому: «ты снова не готов! Ты недостоин доверия, потому что не можешь справиться со своей плохостью! Ты еще не очистился!»
Отдельная тема – встреча двух травматических систем в коммуникативном пространстве. Например, пациента и аналитика. Что будет если встретятся два псевдо- Каина? Не в этом ли один из секретов негативной терапевтической реакции.
Заключение
Все три персонажа и Травматический защитник составляют единую цепь, по которой циркулирует энергия травматической системы, активизируя, в соответствии с требованиями момента, ту или иную фигуру со своим игровым инструментарием.
Девять описанных патогенных игр провоцируют раз за разом повторяющееся отыгрывание, которое, однако, не приводит к появлению нового опыта. И это понятно, ведь они предназначены для иного - удержания во Тьме внутреннего ребенка, который является действительным источником новых смыслов. «Влипая» в патогенные игры, мы как аналитики во многом разделяем участь этого ребенка. И никто не любит такие ситуации из-за ощущения потери контроля над своей жизнью. Но сам факт «влипания» указывает, что мы на верном пути к «чулану». Игры в этом смысле оказываются чем-то вроде колдовских иллюзий, которые Иван-царевич разоблачает одну за другой на пути к своей цели. Для продуктивной работы аналитику важно научится распознавать и отстраиваться от патогенных игр, чтобы затем, в свою очередь, помочь пациенту увидеть эти повторяющиеся сюжеты в своем поведении и выйти из идентификации с ними. Тогда, в конце концов, он сможет услышать голос своего внутреннего ребенка и возможно захочет вывести его из Тьмы.
май 2013
--[1] Пьеса Мольера «Тартюф или обманщик» - прекрасная иллюстрация того, как работают в одном человекев связке работают псевдо-Авель и псевдо-Каин.
[2] Кононов Р.А. Зло: от мифологии к психологическим смыслам/Теменос. Альманах глубинной психологии №5. Екатеринбург, 2012.
